Продюсер, музыкант, автор песен, телережиссер, журналист, теле- и радиоведущий. Генеральный продюсер международного фестиваля «Сотворение Мира».
Шеф-редактор Топфотопа.
Сайт: www.top4top.ru
Как еще можно читать
- Подписаться в Livejournal
- Подписаться в Liveinternet
- Читать в Яндекс.Ленте
- Читать в Google Reader
- Подписаться на RSS
15 February 2010
- Интервью Инсайдера. Вероника Долина – «Дамочка с гитарой»
-
(В преддверии фестиваля "КЕРОСИНКА 20-10" это уже второе интервью с участником. Первое было с Александром Городницким)
Мы знакомы с 1976 года, когда совместно давали «квартирники», ездили на слеты КСП…
Прошли те времена.
Увы, не скажу, что в новой эре мы виделись и общались регулярно. Отнюдь. Даже имея дачи в одном поселке, мы в течение 10 лет не дошли друг до друга, но… отвратительны друг другу так и не стали! А вот сейчас Вероника согласилась прийти к нам на ТОП, вернее, вернуться, потому как она была одной из VIP на ТОПЕ у Диброва. И вот, ее возвращение мы решили предварить вот этим интервью!М. Я для начала, с твоего позволения, выдам некую сентенцию, которую ты либо подтверди, и мы разберём её аспекты, либо отвергни и объясни причины: Любое творчество, так или иначе, направлено на то, чтобы разобраться в процессе борьбы добра и зла.
Д. Ерунда, анатомический театр. Я думаю про это иначе. Я думаю то, что ты провозглашаешь – мелковато.
М. Это не я провозглашаю, есть некая теория.
Д. Не знаю, чья именно это теория, но для меня она неинтересна. Какого покрепче философа пальцем не тронь, хоть Канта, хоть Шопенгауэра, хоть Ницше, хоть нынче любят здешних упоминать, а я меньше люблю, ну вот, какого не тронь, всё о другом, совершенно о другом. Искусство – это чуть повышенное бытие, бессмертие. Так что, какой-то там разбор обстоятельств, типа взятия из Интернета маршрута – искусство этим не занимается. Занимается целью. Путями проникновения занимаются совершенно другие технологии.
М. Вопрос не о путях проникновения, но, так или иначе, человек имеет свои идеологические пристрастия или свои симпатии, или свои принципы. Так или иначе, существует проблемы борьбы добра со злом всегда. Путин – Ходорковский, «Спартак» - «Зенит», рок – попса… Для каждого человека что-то является добром, что-то является злом в той или иной форме. И, в любом случае, он отражает эти процессы в том, что он делает.
Д. Но это неинтересно. Серёж, это так. Но это всё равно, если мы внезапно ход небесных тел будем обсуждать неквалифицированным языком – это дважды два, человечество это разобрало давным-давно. И что с того? В сутках 24 часа, в году, по нынешнему стилю, 365 дней, а добро и зло борются внутри человека и вблизи человека. Как умеют, состязаются за душу человеческую, ну да, это так.
М. Хорошо. Вот выпытал ответ в этом направлении. Обязан ли художник принимать сторону добра, когда этот вопрос перед ним встаёт?
Д. Это тоже не вопрос. Во-первых, никто никому ничего не обязан. Во-вторых, добро и зло относительны, как мы все понимаем на нашем человеческом уровне, в отдельно взятые 75-80 проживаемых человеком световых лет.
М. Я имею в виду добра и зла в его (человека) понимании.
Д. Добра и зла в его понимании? Я думаю, что нет. Нисколько. В некоем «его понимании» никто ничего не обязан. Я думаю, не было бы проблемы двоения, не было бы интересного художественного видения, не было бы ни Джекилов и Хайдов, ни Фаустов, ни Адрианов Леверкюнов, ни многого другого, если бы не было у человека некоторых тайных и явных предпочтений. Нет, человек не конфета, он не очень сладок, он не сиропен. Ничего он не обязан такого. Как может – так и вибрирует.
М. Тогда содержание этики, морали творца?
Д. Понятия не имею. Бессмертие, во-первых, если это мотивация. Потому что тот, кто работает хорошо – тот работает надолго. Как у нас говорят на русском разговорном языке «на века». Ну, на время хотя бы. Не на сиюминутность. Он же не листовки расклеивает по периметру своего забора. А работает, дурачок такой, на время. Вот такая мотивация. Но она задана изнутри! У него изнутри так тикает. У кого «у него»? У многих так тикало. Поэтому мы и читаем книжки, которым 100, 150, 200, 300 лет. Я, например, люблю ещё и в те, которым 500 лет заглянуть. Мне нравится.
М. Скажи, пожалуйста, а если писать «на века», то так или иначе приходится соревноваться и с тем же Камю, и с тем же Кантом.
Д. Соревноваться – нет. Это очень многоячеечная система. Каждый может подстроиться. Здесь всё очень щедро. Можно стать гранью чего-то целого и очень достойно осуществляться. Можно выстроить собственную формулу и тоже быть молодцом. Никто не состязается, в этом моё мнение.
М. Давай разберём такую ситуацию. В 19-м веке писать умели мало людей, но зато, скажем так, вероятность того, что попадёшь в талантливого человека из пишущих, была гораздо выше, чем сейчас.
Д. Ну, это с нашей сегодняшней профанской точки зрения. Думаю, что это, может быть, совсем не так всё было. Может быть, грамотные люди, их всё же было некоторое число, и они определяли кое-что. Всё равно, грамотными людьми писались указы, определялась цивилизация.
М. Писали, я имею в виду.
Д. Я поняла. Я хочу сказать, что грамотных людей было столько, сколько требовалось.
М. А сейчас?
Д. Ну, понятия не имею. Откуда я знаю. Для меня омерзительна квази-литература. Это не предмет моих переживаний и размышлений. Даже в гробу её не вижу.
М. Хорошо. Мне с тобой на эту тему интересно разговаривать. Проведи, пожалуйста, грань между квази-литературой и литературой.
Д. Это очень тонко. В настоящем – или бессмертие, или высокая смерть, а в «квази» этого нет.
М. Когда и кем это определяется?
Д. Это вкус. Это самая волшебная категория, присущая человеку. Это даже не вкус, это – то самое «шестое», что положено человеку. Это вблизи, конечно, вкус, обоняние, осязание, слух, зрение. Словом, те пять чувств, данных человеку природой. Но есть ещё шестое. В старые времена оно называлось «моя свободная воля». В следующие времена оно называлось «интуиция». На самом деле, оно стоит недалеко от вкуса. И, когда я говорю вкус или слух, это тоже профанация, упрощение, осознанное и интуитивное. Есть волшебный определитель, есть измеритель – литература или нет.
М. Скажи мне, у тебя наверняка среди близких людей есть человек, чьё мнение, чей авторитет для тебя что-то да значит. Попробуй вспомнить расхождения во мнениях с этим человеком относительно оценки – искусство это или не искусство.
Д. Этого было очень много. У меня есть расхождения с моими детьми. Они не радикальные. Не потому что они мои дети, а потому что они мои сотрудники. Потому что они мои ежедневные собеседники, участники моих диалогов с цивилизацией, природой, небом и землёй. Да, у нас есть расхождения. Например, кто-то из моих детей ценит современную живопись, а я гораздо меньше. Фазиль Искандер, я прекрасно помню, очень давно без свидетелей мне сказал по моему поводу: «Знаешь, я ничего такого в тебе не вижу». А я даже не спрашивала у него, есть ли во мне что-то, но он счёл нужным это сказать. Что-то, видимо, было. Может, я рукопись принесла, я уж не помню. «Может это в качестве песенок и ничего, а так, вот знаешь, есть понятие «жест поэтический», так вот мне кажется, что жеста нет», - так он сказал, я это хорошо помню. Так скажем, самостоятельного, независимого положения в мире поэзии нет. Ну, я поникла. Я много раз на это Фазилево мерило, неосторожно выказанное, прикидывала то, что делаю. Но прошла уйма лет и я не очень с ним согласилась на свой счёт. Хотя я к себе очень большая придира. Очень!
М. Ну раз мы вот так с Искандера перешли к тебе, можно я вслед за ним пойду? Скажи, пожалуйста, разница между женским и бабским? Существует ли она?
Д. Ну, это ниже плинтуса. Я ничего про это не знаю. Это о чём ты?
М. Я хочу перейти к понятию «женской поэзии».
Д. Пожалуйста, переходи. А как будем переходить? А бабское – это что?
М. «Ромашки спрятались, поникли лютики»
Д. А что здесь бабского? Это просторечный стиль. Не ахматовский. А бабского здесь ничего нет. А в бабском, в остро женском, в женском высокомерии, в женском соло были замечены все поэтессы, от неправдоподобной Сафо до правдоподобной Ахматовой. Да хоть до кого. «Ромашки спрятались» - в этом вообще нет ничего плохого. Просто это немножко ухудшенная простодушная «ксененекрасовская» традиция. Какое здесь бабство? Эти стихи очень складные.
М. Лет 20 назад, одна из моих тогдашних подруг говорила: «Ой, люблю посидеть Долину послушать, поплакать».
Д. Ну и что?
М. Тебе нравится такое восприятие тебя?
Д. А мне-то что, Серёж? Кому что нравится.
М. Ну тебе-то нравится такое восприятие? Кто ты? Можешь ли ты сама оценить свою роль, своё предназначение?
Д. Пусть кто-то плачет. А что плохого-то?
М. Я не говорю «плохого». Вот ты сама как оцениваешь?
Д. Нормально я оцениваю, хорошо. Я вот вчера смотрела маленьких «Ромео и Джульетту», где занят мой семилетний внук. Спектакль длиной едва ли в10 минут, но музыка Нино Рота и всё такое, ручная работа. Я плачу там, как ненормальная. Наверное, не над сценами Ромео и Джульетта, куклами, вырезанными из бумаги, а над тем, что у меня есть ощущение полноты, моё сердце не то, чтобы раскрывается, но вот истекает.
М. А если бы это был не твой внук?
Д. Всё равно. Нет, внук ни при чём. Это просто так совпало. Просто я легко раскрываюсь. А что здесь такого? Я могу не плакать тоже. Я могу хохотать страшно, например. Если что-то идёт вменяемое. Конечно, лучше если это на большом экране или на сцене, нежели по телевизору. От телевизора я валиться со стула не буду. Я сама с юморком, мне профессиональные смешители не нравятся.
М. В кино или в театре воспринимать легче, чем по телевизору.
Д. Ну конечно, это же прямое воздействие. К тому, что кто-то плачет от моих песен. Если он или она зачем-то потянулся рукой и нажал клавишу магнитофона – это же и есть волшебство. Дальше пусть делает что хочет. Пусть выключит, что ж поделаешь. Дело уже сделано. Он уже включил на минуту. Значит, я зачем-то ему понадобилась. Для меня это биологический импульс, приток жизненных сил.
М. Ты тщеславный человек?
Д. Абсолютно нет. Мне кажется.
М. Скажи, пожалуйста, до того, как возник у нас так называемый шоу-бизнес, ты достаточно долго уже существовала на сцене. Предпринимала ли ты какие-нибудь пиар-акции для поднятия собственной популярности?
Д. Не знаю. Пиар? Одно я делала, году в 79-м или 80-м я уже немножко обиходила свои стихи, в 80-м я отнесла их в журнал, и то, был повод. Хоть как-то жизнь мне мигнула, ну, в чьём-то конкретном лице. Например, поэтов, связанных с журналом «Юность». Вот такой был Вадим Ковда, он знал меня по старым литературным объединениям, мне сказал: «Я покажу это Коле Новикову». Всегда помню эти сцены, эти лица, всегда храню бесконечную сестринскую благодарность внутри себя. В принципе, всегда старалась и выказать, и высказать это, конечно, не лебезя при этом. В 80-м году мои стихи попали в «Юность», и я была без ума от того, насколько это было лестно, престижно. В 80-м году они вышли в 6 номере, это была какая-то дата журнала, сейчас уже точно не скажу. Журнал «Юность» мой ровесник, он, по-моему, 56-го года. С июньским номером у них что-то было связано, то ли вышли они в июне, я уже не помню. И вот они дали такие стихи, полосную такую подборку, мне было очень приятно, очень лестно. Дальше я поняла, что это намёк на профессиональные какие-то шаги. Моим стихам это было важно. Мне это было очень важно, интересно, дорого увидеть себя на полоске журнальной. Я видела, что люди их читают в метро. Это совершенно пьянящая штука. Хотя я и была концертным человеком, я видела перед собою полный зал пять раз в неделю. И не из трёхсот человек, а от пятисот до полутора тысяч. Пятьсот человек – это маленький НИИ, а полторы тысячи – это уже Дом Культуры. У меня не было такой омерзительной невостребованности в те годы. И стихи были на бумаги. Я, как могла, заботилась о них, публиковала свои стихи в Москве, в Питере. Чуть-чуть, в журналах. И это всё. Потом Булат Шалвович в то же время, в начале восьмидесятых. Я его спросила: «А что, если я книжечку тоненькую стихов опубликую?». А он тоже был ко мне очень суров, не как Искандер, а гораздо более. И он говорит: «Ну, вот ещё! Ишь, замахнулась! Если сейчас отнесёшь куда-то, это лет на пять-шесть волынки. Не носи никуда, не созрела ты, брат». Я была очень уязвлена, очень! В 1984 году было большое совещание, последнее совещание молодых литераторов всея Советского Союза. И мне дали тогда на книжку и на пластинку рекомендации. И это всё, что я могу вспомнить из своих появлений на людях в специальной манере. А больше я ничего не знаю. Но это были обыкновеннейшие более-менее профессиональные шаги.
М. Мы, когда позавчера разговаривали с тобой без микрофона, я услышал от тебя несколько довольно резких суждений о наших современниках и их отношениях с властью. Ну, я понимаю, «власть отвратительна, как лапы брадобрея»
Д. Гораздо отвратительней!
М. Да. Вот скажи мне, пожалуйста, не кажется ли тебе, что твой своеобразный эскапизм является некой формой конформизма?
Д. А с чем я конформна?
М. Самоустраняешься от общественной жизни.
Д. Нет, это ерунда, Серёж. Я очень открыта многим предложениям. Я переберу их небольшой список, если они ко мне поступят. Но непоступающие предложения – это непоступающие предложения. Искать эти предложения я, конечно же, отказываюсь.
М. Я к тому, что последние лет 7-8 тебя очень мало.
Д. Ну, сколько мне положено. Биологически. Столько сколько положено такой, как я.
М. Я к тому, что есть гораздо менее достойные, которые понимают, что сверкать на экране модно!
Д.Нет, нет, Серёжа. Я ни от чего не бегу. Это кажущееся. Я ни от чего не укрываюсь. С властью последнего десятилетия я не контактирую, но и она со мной не контактирует. Мы абсолютно на разных планетах, слава тебе, Господи! От чего у меня этот эскейп? Рада бы! Но тут так просто не укроешься. На каждом углу шлагбаум приветствует тебя. А имея четверых детей и четверых внуков, в этой, так сказать, «подсовеченной» Москве проживая, от чего тут укроешься?
М. Когда мы с тобой познакомились, твоя тусовка была ярко выражено диссидентской. Тартаковский, Зугман, Иодковский… Эта тусовка была антисоветская или нет?
Д. Да не она антисоветская была…
М. Но конкретное диссидентство, конечно, присутствовало
Д. Ну и что с того? Такие были люди.
М. И я там был. С большим удовольствием. И, в общем, я во многом остался таким же семнадцатилетним идиотом, каким с тобой познакомился. Я про то, что, а всегда ли нормальный творческий человек должен быть диссидентом?
Д. Диссидентом? Не приветствовать власть, что ли, рукоплесканиями? Ну да. Моё мнение – да.
М. Даже когда власть приличная?
Д. А я не знаю. Я не жила при такой. С которой бы мы дружили и комфортно жили. Хотя нет. Конечно, нет. Можешь поймать меня на слове, даже я сама себя поймаю. Я была и есть абсолютный поклонник Ельцина. Это было неуклюже, потом стало стыдно, потом стало некомфортно, а сейчас это так немодно, что уже никто в эту куртку не влезет. А мне очень нравился Ельцин и всё, что было при Ельцине. Мне очень нравилось в этой густоте. И присутствие уймы моих приятелей в СМИ. И огромные, фантастические, детские, смешные, колоссальные мои личные фантазии.
М. Надеюсь, не эротические?
Д. Разные. Которые на треть, а то и больше, можно было осуществить. А последнее десятилетие я не фантазирую совершенно. Не то, чтобы биологически. Я же всё-таки замешана на реальности. Такой, как я персонаж. Нам с реальностью надо сотрудничать, либо она такая, что я могу с ней как-то, либо вообще никак. И последнее десятилетие я почти никак. Я еле дышу. А что касается ельцинского времени – я была в порядке.
М. А когда и в каких программах ты сейчас теоретически появляешься на «ящике»? Наверное, в какой-нибудь «Культурной революции»?
Д. Никогда не была. Никогда и не единого раза.
М. Не приглашали?
Д. Приглашали. Раз-другой. Три-пять лет назад. По каким-то совершенно нелепым темам. Они были мне неинтересны. Один раз я пожала плечами и отказалась. Если я правильно помню. А другой раз меня не было в Москве. И всё, больше не обращались. Я абсолютно не поклонник этой передачи.
М. Понятно. А у Ерофеева?
Д. Очень люблю. Полнейший поклонник.
М. Бывала?
Д. Бываю. И не один раз в году.
М. Где тебя ещё можно видеть?
Д. На телеканале «Культура» бывают мои индивидуальные концертные программы. Это тоже бывает пару раз в году.
М. Скажи, сейчас насколько часто тебя куда-нибудь приглашают с концертами?
Д. Концертная жизнь? Ну, пару раз в неделю следует спеть, дабы держать голову над водой.
М. А куда? Какая аудитория?
Д. Не знаю. Кто соберётся.
М. Ну вспомни последние три-четыре выступления свои.
Д. Ну, многие знают, что я пою в «Гнезде глухаря», это бардовский кабачок. Я там дважды в месяц присутствую.
М. А какие-то специальные предложения? Вот, как раньше в НИИ, а сейчас корпоративы.
Д. Я не имею к этому отношения. Либо это такая редкость, что сейчас мне это трудно упомнить. Может быть, что-то и бывает раз года в три.
М. Билетные концерты сейчас встречаются?
Д. Только билетные. Я никаких других не знаю и никогда не опираюсь на спонсора.
М. Скажи, пожалуйста, вот сейчас последние билетные концерты – какие города, какие залы?
Д. Я только что вернулась из Новосибирска. Филармония.
М. Сколько мест?
Д. Мест 400-500,
М. Кто сейчас твоя аудитория? Те же, кто был раньше, только постаревшие?
Д. Нет. Во-первых, некие те же, которые были в 70-80-х годах. Красивые седовласые люди, они в основном уже исчезли с земной поверхности. Их дети очень повзрослели, полагаю, что все они повзрослей, чем я, а их внуки встречаются в моих залах. Внуки тех первых, кто приветствовал меня на моих первых выступлениях
М. Что они делают? Кто они по своему социальному статусу?
Д. Не могу знать. Не желаю. В известной степени, не всё равно. Это не как прежде – учителя и инженеры. Это некие другие социальные очертания.
М. Этот вопрос я задаю не столько для интервью, сколько мне интересно самому.
Д. Ну что, я буду анкетирование в зале делать?
М. Нет, ну ты же предполагаешь.
Д. Ну, скажем, что это служащие. Такое уклончивое слово. Конечно, не советские служащие, подразумевающие чиновничество или такое мелкое из них, что сильную оптику нужно, чтобы их разглядеть. Может быть, это мельчайшие участники мельчайшего бизнеса, не самых «грузчиковых» специальностей. Я всегда конструктивно переживала, что в моих залах, не этих, а ещё тех, так мало артистической публики. Выступаешь в зале Дома Кино, и это не значит, что придут, нет, не артисты, а сценаристы, хоть немножко, хоть пяток, и режиссёры, хоть три человечка. Нет. Никогда. Я очень переживала. Или придёшь в Дом Литератора, я говорю, что было двадцать лет назад, и это не значит, что хотя бы пять литераторов, вот прям литературных людей, будут тебя приветствовать из зала. Всегда были родичи, приятели. И я всегда переживала свою низковатую, нет, не популярность, а ангажируемость, привлечённость в ряды людей творческих. Мне было всегда жаль. Я очень нежно всегда относилась к сценаристскому племени, к драматургам, к тем, кто пишет, да ещё и со специальными искривлениями формалистическими. Я бесконечно всегда это ценила. Очень.
М. Что должно произойти в мире или стране, чтобы Вероника Долина вышла на демонстрацию?
Д. Демонстрацию? Да всё, что угодно. При полном отсутствии угрозы мне со стороны силовых ведомств, меня можно вызвать на улицу с чем угодно. С условием хорошей организации, чтобы мне было интересно хоть отдельно взятые полтора часа. Хоть в защиту животных, или хоть я бы возглавила, в первой десятки была бы в кольцевом шествии людей по Садовому Кольцу во имя того, чтобы в школах установили задвижки на дверях и повесили туалетную бумагу. Я бы первая пошла. Когда мой старший сын (теперь воспитывающий уже своего мальчика) пошёл в школу, я была уверена, что это так легко поправить. Даже я уже тогда была взрослая. Мне было 26 лет, и я была уверена, что дверь школьного туалета за московским ребёнком мягко захлопнется, задвижка деликатно закроется и, сносного качества туалетная бумага ожидает его. Эта, как будто бы пустяковина, не осуществилась.
М. А может быть дело не в отсутствии туалетной бумаги, а в том, что боялись задвижек?
Д. Мне это неинтересно. Я думаю, что и туалетной бумаги они боялись.
М. Может быть, если будет больше задвижек, будет больше наркоты в туалетах?
Д. Какой наркоты? Человеку же нужно справить свои биологические нужды. При чём тут наркота?
М. А неужели тебе никто из твоих четверых детей и уже четверых внуков не говорили, что это реальная проблема их одноклассников?
Д. Нет. Моих детей это не затронуло. Я на эту тему не собеседую. Всё существует. Наследственный сифилис, могучий алкоголизм, непобедимые дурноты, беженцы, Слава Богу, их у нас меньше, чем в любой другой столице мира, и они бесправны, как нигде, и поэтому почти невидимы, несмотря на то, что их убивают, как насекомых, регулярно. Это всё есть. Это социальные пороки. Это жуткие язвы общества. Это есть. Но я не обсуждатель, понимаешь? Я реальный борец на тех фронтах, на которых я могу действовать. Наркотики? Ну, наркотики, я специально говорю: «Ну, с запятой», потому что для меня «ну, грубость учителей» гораздо страшней, чем «ну, наркотики». Грубость любого отдельно взятого, а также тотальная грубость всех физкультурников.
М. Вот когда сейчас молодой человек берётся за гитару, за компьютер, в котором можно что-то написать, за кисти и краски, это, в общем-то, на 99,99 % мотивация – материальная составляющая творчества
Д. Это прямо какая-то фантастическая версия.
М. Нет, почему же? Я сейчас довольно много работаю с рокерами, которые создают команды. Да, их распирает изнутри, они доноры, по сути. В принципе – это исключение. А вот, так называемая, «Фабрика Звёзд»…
Д. Ну, это со мной не объект разговора. Я ничего не знаю. Мои дети, которым хорошо за двадцать, а некоторым и тридцать, лет шесть или семь занимаются музыкой, играют в московских клубах, репетируют. Вот, мой дом уставлен их инструментами. С парочкой сотоварищей, суммарно их пять человек. Они ездят с маленькими гастролями, ездили на фестиваль «Нашествие», но никакой коммерческой составляющей у них я не успела заметить.
М. Адекватная оплата творческого дара существует?
Д. Нет.
М. Кто должен торговаться?
Д. (молчит)
М. Хорошо. Мне говорили про изумительный эпизод, по-моему, на «Музыкальном Ринге», когда, якобы, именно ты сказала: «Мы все должны получать нормальные деньги за наши выступления. Я стою 100 долларов», на что Розенбаум заржал, протянул тебе 100 долларов и сказал: «Ну, пошли».
Д. Нет. Это не со мной. Никогда в жизни я не сходилась с Розенбаумом близко. И какого чёрта? Это разные совершенно планеты. Какие 100 долларов? В жизни я этого не говорила. «Музыкальный Ринг» начался с Тамары Максимовой. Я тогда уже была довольно хорошей «разговорщицей». Она мне звонила, предлагала участвовать, но я была довольно ретива и отказалась. Никогда я не была на этом «Музыкальном Ринге». Деньги волшебная вещь. Деньги отличная вещь. Профессиональный человек, художник про это кое-что знает от природы, кое-что понимает. Он знает, сколько ему надо на небе и на земле. Он знает, сколько ему надо на земле и знает, как об этом попросить небо. Это трудно, это интимно. Конечно, художник не должен быть осыпан, но то, что ему нужно, сколько нужно – это без сомненья. Вокруг этого гвоздя дальнейшие заплывы и устраивают.
М. Ты не была замечена в тусовке «Песни нашего века». Тебя не приглашали или ты отказывалась?
Д. Нет, не приглашали. И не могли пригласить, потому что когда это всё началось, это были сильно выраженные отношения с теми, кто замыслил тот проект. Отношения были настолько близкими, что меня туда невозможно было включить, и я, конечно же, не включилась бы. Если бы я хоть концептуально подключилась, это не получилось бы таким могильным камнем для таких одиночек, как я. Это вопиющее безвкусие, которое воцарилось. Воцарилось в эмигрантских колониях. В Германии, Израиле, США рассказывали анекдоты про «Песни века». Как мне рассказывали о гастролях «Звуки Му» в Свердловске, что они там вытворяли в гостинице и какие следы оставили там. Вот такие же неслыханные, нестерильные анекдоты мне рассказывали про «Песни века» во всех городах мира, которые побольше, и где остались эти следы. Это всё странно, некрасиво и нелепо, это больше про человеческую составляющую. Нет, никто меня туда никогда не звал и, конечно же, я никогда бы туда не пошла. Никакое хоровое пение для меня немыслимо. Да и было это десять лет назад, когда с концертами для такой, как я всё было гораздо благоустроенней.
М. Вот скажи, эта проблема ХХ века и уже начала ХХI? Ведь массовая культура появилась в ХХ-ом веке, ну, может быть, захватила конец ХIХ...
Д. Всегда была.
М. Я имею в виду, почему массовая культура по большей части это явление дурного вкуса?
Д. Простонародного?
М. Не обязательно простонародного, даже с потугой на интеллигентность, но как только появляется телевизор, или что-то подобное, всё сразу скатывается в низкий резонанс.
Д. Телевидение – это же манипулятор. Что я здесь буду открывать дважды два?
М. Нет, я сейчас не про это. Вот «Песни века» придумали достаточно милые «Иваси», всё это собрали вместе. Но как только все эти хорошие песни, которые мы действительно пели с детства, иногда у костра, иногда в компаниях, иногда сами себе, как только всё это зазвучало в больших залах, хором и под пятнадцать гитар – почему-то у этого сразу проявилась какая-то дурновкусная составляющая.
Д. Ну, а в чём вопрос?
М. Почему? Что произошло? Какой щелчок, какой тумблер сработал?
Д. Потому что тоталитарный, так сказать, запашок пошёл очень сильный. Не поют же сольные арии квартетами. Есть такие вещи в природе, они сольные. Люди не производят детей в процессе каких-то могучих оргий, человек немного по-другому устроен! Есть вещи, которые устроены интимно, и в биологической жизни человека, и в искусстве. Интимно и всё! Это сольное дело. Это разовая партия. Это очень высокая ответственность, вот в чем дело. Художник стоит совершенно беззащитный, босоногий между небом и землёй. Я уже не раз сегодня это говорила. Один. В этом его бессмертие и смертность, беззащитность и страховка, чуть ли не гарантия. Тоталитарный принцип абсолютно другой, он не то, что оркестровый, он хоровой, «стадный», он отрицает, зачёркивает ответственность одиночки, снимает с одиночки ответственность. А с человека не стоит снимать ответственность, её возлагать, возлагать надо! Тогда он человек!
М. В наше время люди тоже пели хором. Открывали и закрывали слёты. «Возьмёмся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке».
Д. Да. Или «пока Земля ещё вертится». Это абсолютно сольный проект. Песня «Пока Земля ещё вертится» на Библейском уровне была Булатом Шалвовичем начертана скрижаль этакая. Абсолютно одинокого голоса звучание, которое оказалось подавлено хорами «Песен века». Мне очень жаль. Так нельзя. Это проституция. Но так вышло. Так получилось.
М. Я тебе говорю даже не про «Песни нашего века». А про то, что ещё 25 лет назад эти песни пели со сцены, хором у костров и это не было отвратительно.
Д. Не было.
М. Потом эти песни сменились на «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».
Д. Ну, да, возможно.
М. А почему сменились?
Д. Другое поколение. Немножко пропаганды и всё меняется.
М. А почему захотелось это сменить? Разве не приятней чувствовать себя, держась тех самых корней?
Д. Нет. Это другое поколение. Я думаю, что нынешний прагматизм двадцатилетних перечеркнёт все эти розовые слюни на счёт «вместе собраться». Это уже выглядит как «орлёнок-орлёнок, взлети выше солнца». Это уже так же старомодно. Нынешний прагматизм ещё более свинцовый. Моё мнение. В умах, в разумах.
М. А, кстати, почему ты не уехала в своё время?
Д. Мотивироваться надо. Надо хотеть. Мочь. Мочь и хотеть. Не было мотивации. Я была крупнейший славянофил. Мои мужья были русскими. У меня не было наполовину еврейского мужа, а тем более полноценного. Значит, надо иметь вескую мотивацию. Один мой муж был физиком и очень служил фундаментальной науке и служит. А нынешний мой вот уже 17 лет как муж, Саша, кинорежиссёр. Тоже довольно таки фундаментальная область. Вот и всё. Скорее всего, Володя мог куда-нибудь отвалить, если бы у меня были мои ранние силы на отъезд, там, в начале 90-х годов.
М. А у тебя время между мужьями было недолгим?
Д. У меня не было времени. Это была моя свободная воля. Паузы никакой не было. У меня были родители, которые, так сказать, здешний режим обслуживали как умели на базе инженерии и науки. Для них отъезд был невозможен. А без них он был бы для меня парадоксален. Когда он сделался возможен по их крайнему возрасту, было уже поздно. Потому что, как мне казалось тогда, в начале 90-х, радости, полноценности от отъезда в Израиль, а тем более в Америку, они могли бы и не получить. Это было рискованно. И они не хотели. И я родителей с удовольствием обихаживала здесь, но их гибель была ужасна и я всегда проклинаю себя, казню за то, что не увезла родителей.
М. Скажи мне, у тебя есть творческая ревность к кому-нибудь?
Д. Раньше во мне этого не наблюдалось, сейчас какие-то крупинки можно нащупать. Можно.
М. Это к чему? К достижениям или к таланту?
Д. Ни то, ни другое. Просто моя профессиональная участь мне уже давно кажется не то, чтобы бесперспективной, а ещё неэффективной. Не то, что бесперспективной на выходе, а и неэффективной по ходу дела. Мне кажется, это очень незавидная судьба, так ощущать себя, и я очень это переживаю. Когда я вижу высокоэффективное художественное существо – я вспыхиваю таким специальным огнём. В музыке, поэзии, прозе.
М. Последний раз по поводу кого это было?
Д. Нет. Это рискованно всё называть. Это такой специальный огонь. Он светлого назначения. Я не замечала за собой, чтобы я его расходовала на какие-то дурные цели.
М. Нет-нет, я сейчас пытаюсь понять не то, кому ты завидуешь, а то, кто, из существующих вокруг, способен зажечь этот огонь в тебе.
Д. Любой раскрепощённый художник имеет все шансы сорвать у меня бешеные аплодисменты. Кино, театр, многим не возбраняется. Хороший роман. Я просто взрываюсь. Абсолютно невинную историю расскажу. В прошлом году я прочитала «Асан» Маканина и приветствовала всем сердцем, всей головой и всеми фибрами. И это для меня было чудом, что в современной русской литературе такой роман вышел. Вот это для меня было осязаемое чудо.
М. Ты оптимист или пессимист?
Д. Понятия не имею. Я эти слова на дух не переношу. У меня есть сын, четырнадцатилетний мальчик, которого кто-то или на примере расхожих каких-то выражений, самых бросовых, лежащих на поверхности, учит этим штампам. Он время от времени обращается ко мне с вопросами об оптимизме и пессимизме. Я не переношу эти два понятия.
М. Знаешь, как армянское радио спросили, когда же, наконец-таки, будет лучше? Ответ: «Лучше уже было».
Д. Не знаю, Серёж. Иногда мне кажется, что маленькие хаотические чудеса покажут свои маленькие пушистые ушки в моей дремучей жизни. Но чаще кажется, что нет. Ничего не будет. Не знаю, сие оптимизм или пессимизм, по-моему, ерунда какая-то. Я очень здравомыслящая, мне кажется, всё ещё. Поколение наше не сильно, родители наши были гораздо сильнее. Просто биологически. Те, кто были прародителями, как я понимаю, были ещё сильнее. Мы слабенькие, такие, как мои сверстники, вымирающие в этом или прошлом году. В возрасте между 50-ми и 60-ми. Это же невероятно.
М. Это поколение или экология?
Д. Как знать. Какая экология? У меня приятели в этом и прошлом году такого же возраста гасли где угодно. В Израиле, Франции, Америке. Ну какая экология? Глобальная? Чёрт её дери! Наверное. Слабоваты мы.
М. Как часто ты пишешь?
Д. Не столь часто, сколь регулярно.
М. Последняя законченная и состоявшаяся песня у тебя когда произошла?
Д. Весной… Свежие строфы появились осенью, очередной альбом – к Новому Году, пятый внук – зимой, хоть какие-то планы (фантазии), под самый конец зимы…Вероника посмотрела на часы. Мы разговаривали больше часа, и мои вопросы закончились.
Пора начинаться Вашим!
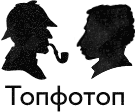


11 комментариев
Огромное спасибо Сергею за встречу с Вероникой! Когда-то перестала писать песни, потому что она уже все за меня сказала. И за всех похожих девочек, умеющих летать. Но это отдельный разговор!
Только заголовок не понравился - почему "дамочка"? Обидное слово.
@Елена Минкина, Название утвердила она сама. Моё было - "Бабушка с гитарой", потому что она много про внуков говорила.
Бабушка?! ужас какой!! Внуков пусть будет как можно больше, но бабушками мы не станем никогда!! Не надейтесь :))!
@Елена Минкина, кстати, у комментов есть предельная емкость. Ваша повесть влезла не вся, восстановите справедливость, плиз. Беседер?
@Сергей Миров, Я дала ссылку на другой сайт, где она давно стоит. Повесть длинная, пусть себе. Зато группа Мишель теперь со мной дружит :). Приглашают на запись. Боюсь, тоже за бабушку примут.
На самом деле, времени очень мало. Не успеваю на людей посмотреть. И косит наше поколение, как Вы с Вероникой заметили, без разбору, еле успеваешь уворачиваться. Ничего, будем жить быстро и хорошо!
Елена Минкина
Я очень взрослая бабушка.30 лет назад я слушала Веронику с очень большим интересом. Мне кажется время ее песен прошло или, точнее сказать, что ей лучше петь в маленькой аудитории. И это будет чисто женская аудитория мамочек.
Уважаемая @мама шефредактора! Можно признать, что время Вероники прошло. Все проходит, как известно. И Галича сегодня мало кто станет слушать. И Борис Гребенщиков, кумир всех моих друзей, не так часто появляется. И Макаревич на местном иконостасе вызвал скорее огорчение, чем радость встречи.
Так что же будем делать, дружно рванем на стадионы в поисках ПОПа и РЕПа? Покрасим седые волосы в разноцветные косички и проколем пупок?
Знаете, я согласна на маленькую женскую аудиторию!
И кто ругает нас - не правы,
И кто жалеет нас не правы,
А правы те, кто любит нас!
Комментарий удален
Комментарий удален
We will surely subscribe to this post,,, because of its very relevant topics that in searching searching for more.
logoinn.com | Web Designs
Thanks for the unmatchable diary.it was rale useful for me.navigator sharing specified ideas in the instant as symptomless.this was actually what i was labour for,and i am voluntary to came here!
oil dewaxing
Для того, чтобы оставлять комментарии, вам нужно войти
 или зарегистрироваться.
или зарегистрироваться.